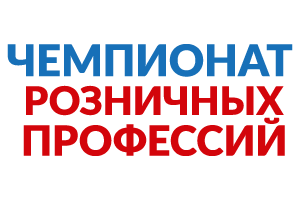"Мы больше не пишем стратегии - мы в них живем"
Елена Северюхина, HRD "Комус"
Елена Северюхина, HRD "Комус"
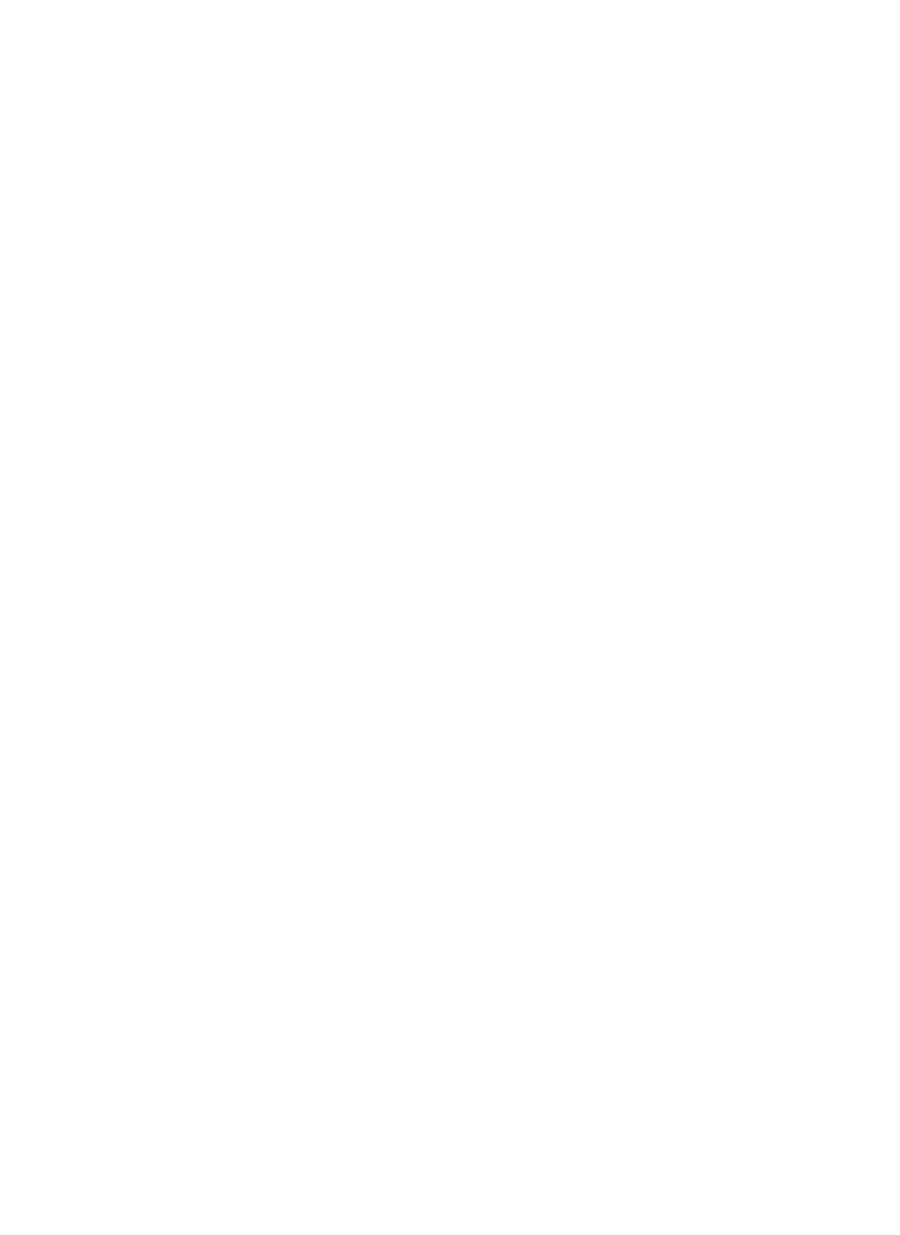
В рамках проекта «ГипермаркеР для CEO» состоялась встреча
Алексея Филатова, основателя Академии ритейла и сопредседателя оргкомитета Чемпионата розничных профессий с Еленой Северюхиной, HR-директором компании «Комус» и автором консалтингового проекта «HR без HR».
Главной темой обсуждения стали фундаментальные изменения в подходах к управлению бизнесом на фоне новой рыночной реальности.
Алексея Филатова, основателя Академии ритейла и сопредседателя оргкомитета Чемпионата розничных профессий с Еленой Северюхиной, HR-директором компании «Комус» и автором консалтингового проекта «HR без HR».
Главной темой обсуждения стали фундаментальные изменения в подходах к управлению бизнесом на фоне новой рыночной реальности.
Мне бы хотелось поговорить с вами сразу по нескольким направлениям. И начать, пожалуй, с самого главного. Последние годы стали для бизнеса периодом бесконечных перемен. Сложилось ощущение, что исчезли ориентиры — раньше мы могли смотреть на опыт крупных западных компаний и понимать, как действовать. Сейчас этих ориентиров нет. Что, по-вашему, кардинально меняется в системном подходе к управлению компаниями?
— Это, правда, и простой, и сложный вопрос одновременно. Давайте порассуждаем. У меня сейчас две роли: я HR-директор в "Комусе", и у меня есть собственный консалтинговый проект "HR без HR". Почему такое название? Потому что я считаю, что лучший HR для команды — это её лидер. Одна из ключевых практик в моём проекте — стратегические командные сессии. И вот что я вижу: процесс стратегирования остался, а продукт стратегирования — кардинально изменился.
Никто сейчас не пишет классических длинных стратегий. У кого-то, да, остались десятилетние модели для расчёта окупаемости, особенно если компания работает с инвестициями или заёмным капиталом. Но та форма стратегии, которую я раньше видела в сотрудничестве с McKinsey, Bain, Accenture — огромные документы, глубочайший анализ, модели, функциональные стратегии на 3–5 лет — вот это всё ушло с радаров.
Однако сам процесс стратегирования остался. Потому что каждое изменение — геополитическое, макроэкономическое, микроэкономическое — заставляет нас снова и снова переосмыслять, как устроена наша бизнес-модель. Какие у нас продукты, какие сервисы, какие сегменты клиентов. Всё это требует постоянной настройки операционной модели.
А операционная модель — это структура, роли, компетенции, полномочия, ключевые процессы, мотивация, и даже поведенческие паттерны. И мы постоянно эту модель пересобираем. Поэтому иерархичные и централизованные структуры уходят на второй план. Сейчас почти не осталось компаний с жёсткой централизацией.
В условиях турбулентности команды должны постоянно синхронизироваться и перестраиваться. Это порождает новые формы управления: проектные, продуктовые, мобильные рабочие группы. У нас больше нет классических "продаж" или "логистики" — есть кросс-функциональные группы, которые решают конкретные задачи. Это и есть реальность.
Настоящая трансформация — это не про иерархии. Это про рабочие группы, которые способны быстро реагировать на меняющиеся условия.
Можем ли мы назвать это проектным управлением?
— И да, и нет. Классическое проектное управление предполагает ограничения по срокам и бюджету. А у нас эти группы могут работать в непрерывном режиме.
Вот интересно: с одной стороны мы говорим о децентрализации, а с другой — реальность такова, что российский бизнес зачастую держится на сильной фигуре, на одном лидере. Мы видим это и в ретейле, и в FMCG. Крупные сделки приводят к тому, что всё концентрируется вокруг одного человека. Где здесь децентрализация? Это желаемая модель или всё-таки реальность другая?
— И то, и другое. Всё зависит от этапа. Когда одна компания покупает другую, важна этапность. Если цель — масштабирование, тогда да, можно централизовать: стандарты, регламенты, интеграция. Но если вы покупаете не просто бренд, а команду с уникальной экспертизой, то централизовать не получится. Мы, например, купили премиальный бренд, а сами работали в субпремиальном сегменте. И мы были вынуждены слушать команду, которую приобрели, потому что у них была другая, очень важная компетенция.
Так что если сделка про интеллектуальные активы или уникальные знания, то централизовать такой актив просто невозможно без потери смысла.
Вернусь к первому вашему тезису. Стратегия перестала быть продуктом. Как тогда это работает на практике? Это ежеквартальные сессии? Продуктовые гипотезы?
— Да, стратегирование стало непрерывным процессом. Мы больше не тратим полгода на написание стратегии и не кладём её в ящик. Мы постоянно пересматриваем: что произошло с клиентами, что изменилось в законодательстве, как влияет ключевая ставка. Это постоянная калибровка.
И для того чтобы этот процесс жил, должны быть люди, которые умеют его держать в фокусе и обновлять. Это и есть новая управленческая функция.
И кто эту функцию выполняет? HR-директор?
— Иногда HRD, иногда собственник. Важно понимать: роль и должность — не одно и то же. В малом бизнесе роль HR-директора часто берёт на себя основатель.
В моей практике это две роли. Первая — быть носителем культуры и привлекать недостающие компетенции. Например, мы понимали, что у нас нет внутреннего опыта стратегирования, и нашли внешний ресурс, подобрали под себя. Вторая — это организационное развитие. Мы внимательно слушаем, где драйверы роста, и помогаем адаптировать операционную модель под бизнес-замысел.
То есть бизнес приносит идею, а вы помогаете встроить её в структуру?
— Да. Пример: бизнес выделяет средний сегмент клиентов. Сначала насыщаем его стандартными продуктами, потом упираемся в потолок. Тогда мы выделяем подгруппы: FMCG, пищевая промышленность, сельхозпереработка. Под них уже перестраиваем ассортимент, процессы, мотивацию. Может быть, даже создаём новую структуру продаж. Сначала платим за вход в сделку, потом — за выручку, потом — за маржинальность. Это и есть стратегическое организационное развитие.
А может HR не просто поддерживать, а вести за собой? Быть инициатором?
— Может. Например, мы фиксировали, что сотрудники страдают от ручного труда. Предложили автоматизацию. Нам сказали: слишком долгая окупаемость. Тогда мы принесли демографические тренды, рост зарплат, дефицит кадров. И в такой связке HR становится стратегическим партнёром.
То есть это уже влияние на саму культуру?
— Да. Мы прошли путь в найме: от 50% закрытых вакансий до 85%, а потом пошли глубже. Смотрим на каждую смену, на каждый склад. Если хоть одна вакансия не закрыта — объект в красной зоне. Это другая степень внимания и глубины. Мы не просто управляем задачами, мы меняем мышление. Это и есть работа с культурой.
Что у вас с искусственным интеллектом в HR?
— Я не люблю хайп. Мы подошли прагматично. Взяли бывшего HR, который знает ИИ, он собрал кейсы. Обучили команду: короткие онлайн-сессии, только на практике. Потом запустили конкурс: кто предложит решение, экономящее время и масштабируемое — победит. Это даёт результат.
И наконец, про массовый персонал. Что меняется?
— Раньше кто-то рос в доле, кто-то в эффективности. Сейчас надо и то, и другое. На фоне дефицита кадров. Значит: надо управлять результативностью (performance review), вовлечением, оптимизацией затрат. Но главное — это передать культуру сбережения и вовлечения на уровень линейных руководителей. А мы — поддерживаем: инструменты, обучение, сигналы, дашборды. Но это их ответственность.
Спасибо. Это был один из самых насыщенных разговоров. Очень жду продолжения.
— Спасибо за доверие и интерес вашей аудитории.
— Это, правда, и простой, и сложный вопрос одновременно. Давайте порассуждаем. У меня сейчас две роли: я HR-директор в "Комусе", и у меня есть собственный консалтинговый проект "HR без HR". Почему такое название? Потому что я считаю, что лучший HR для команды — это её лидер. Одна из ключевых практик в моём проекте — стратегические командные сессии. И вот что я вижу: процесс стратегирования остался, а продукт стратегирования — кардинально изменился.
Никто сейчас не пишет классических длинных стратегий. У кого-то, да, остались десятилетние модели для расчёта окупаемости, особенно если компания работает с инвестициями или заёмным капиталом. Но та форма стратегии, которую я раньше видела в сотрудничестве с McKinsey, Bain, Accenture — огромные документы, глубочайший анализ, модели, функциональные стратегии на 3–5 лет — вот это всё ушло с радаров.
Однако сам процесс стратегирования остался. Потому что каждое изменение — геополитическое, макроэкономическое, микроэкономическое — заставляет нас снова и снова переосмыслять, как устроена наша бизнес-модель. Какие у нас продукты, какие сервисы, какие сегменты клиентов. Всё это требует постоянной настройки операционной модели.
А операционная модель — это структура, роли, компетенции, полномочия, ключевые процессы, мотивация, и даже поведенческие паттерны. И мы постоянно эту модель пересобираем. Поэтому иерархичные и централизованные структуры уходят на второй план. Сейчас почти не осталось компаний с жёсткой централизацией.
В условиях турбулентности команды должны постоянно синхронизироваться и перестраиваться. Это порождает новые формы управления: проектные, продуктовые, мобильные рабочие группы. У нас больше нет классических "продаж" или "логистики" — есть кросс-функциональные группы, которые решают конкретные задачи. Это и есть реальность.
Настоящая трансформация — это не про иерархии. Это про рабочие группы, которые способны быстро реагировать на меняющиеся условия.
Можем ли мы назвать это проектным управлением?
— И да, и нет. Классическое проектное управление предполагает ограничения по срокам и бюджету. А у нас эти группы могут работать в непрерывном режиме.
Вот интересно: с одной стороны мы говорим о децентрализации, а с другой — реальность такова, что российский бизнес зачастую держится на сильной фигуре, на одном лидере. Мы видим это и в ретейле, и в FMCG. Крупные сделки приводят к тому, что всё концентрируется вокруг одного человека. Где здесь децентрализация? Это желаемая модель или всё-таки реальность другая?
— И то, и другое. Всё зависит от этапа. Когда одна компания покупает другую, важна этапность. Если цель — масштабирование, тогда да, можно централизовать: стандарты, регламенты, интеграция. Но если вы покупаете не просто бренд, а команду с уникальной экспертизой, то централизовать не получится. Мы, например, купили премиальный бренд, а сами работали в субпремиальном сегменте. И мы были вынуждены слушать команду, которую приобрели, потому что у них была другая, очень важная компетенция.
Так что если сделка про интеллектуальные активы или уникальные знания, то централизовать такой актив просто невозможно без потери смысла.
Вернусь к первому вашему тезису. Стратегия перестала быть продуктом. Как тогда это работает на практике? Это ежеквартальные сессии? Продуктовые гипотезы?
— Да, стратегирование стало непрерывным процессом. Мы больше не тратим полгода на написание стратегии и не кладём её в ящик. Мы постоянно пересматриваем: что произошло с клиентами, что изменилось в законодательстве, как влияет ключевая ставка. Это постоянная калибровка.
И для того чтобы этот процесс жил, должны быть люди, которые умеют его держать в фокусе и обновлять. Это и есть новая управленческая функция.
И кто эту функцию выполняет? HR-директор?
— Иногда HRD, иногда собственник. Важно понимать: роль и должность — не одно и то же. В малом бизнесе роль HR-директора часто берёт на себя основатель.
В моей практике это две роли. Первая — быть носителем культуры и привлекать недостающие компетенции. Например, мы понимали, что у нас нет внутреннего опыта стратегирования, и нашли внешний ресурс, подобрали под себя. Вторая — это организационное развитие. Мы внимательно слушаем, где драйверы роста, и помогаем адаптировать операционную модель под бизнес-замысел.
То есть бизнес приносит идею, а вы помогаете встроить её в структуру?
— Да. Пример: бизнес выделяет средний сегмент клиентов. Сначала насыщаем его стандартными продуктами, потом упираемся в потолок. Тогда мы выделяем подгруппы: FMCG, пищевая промышленность, сельхозпереработка. Под них уже перестраиваем ассортимент, процессы, мотивацию. Может быть, даже создаём новую структуру продаж. Сначала платим за вход в сделку, потом — за выручку, потом — за маржинальность. Это и есть стратегическое организационное развитие.
А может HR не просто поддерживать, а вести за собой? Быть инициатором?
— Может. Например, мы фиксировали, что сотрудники страдают от ручного труда. Предложили автоматизацию. Нам сказали: слишком долгая окупаемость. Тогда мы принесли демографические тренды, рост зарплат, дефицит кадров. И в такой связке HR становится стратегическим партнёром.
То есть это уже влияние на саму культуру?
— Да. Мы прошли путь в найме: от 50% закрытых вакансий до 85%, а потом пошли глубже. Смотрим на каждую смену, на каждый склад. Если хоть одна вакансия не закрыта — объект в красной зоне. Это другая степень внимания и глубины. Мы не просто управляем задачами, мы меняем мышление. Это и есть работа с культурой.
Что у вас с искусственным интеллектом в HR?
— Я не люблю хайп. Мы подошли прагматично. Взяли бывшего HR, который знает ИИ, он собрал кейсы. Обучили команду: короткие онлайн-сессии, только на практике. Потом запустили конкурс: кто предложит решение, экономящее время и масштабируемое — победит. Это даёт результат.
И наконец, про массовый персонал. Что меняется?
— Раньше кто-то рос в доле, кто-то в эффективности. Сейчас надо и то, и другое. На фоне дефицита кадров. Значит: надо управлять результативностью (performance review), вовлечением, оптимизацией затрат. Но главное — это передать культуру сбережения и вовлечения на уровень линейных руководителей. А мы — поддерживаем: инструменты, обучение, сигналы, дашборды. Но это их ответственность.
Спасибо. Это был один из самых насыщенных разговоров. Очень жду продолжения.
— Спасибо за доверие и интерес вашей аудитории.